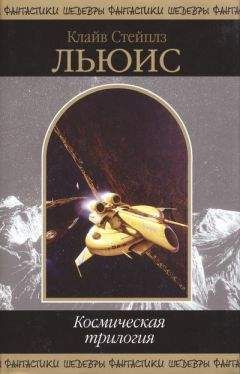Плодотворнейший период, начавшийся книгой о страдании, кончился книгой о чуде. Это тоже был трактат — рассуждения, доказательства, доводы. В феврале 1948 г., на заседании университетского клуба, который называли «Сократовский», возник спор с профессиональным философом Элизабет Энском. Льюис, что ни говори, был побежден. Предполагают, что именно после этого он отказался от трактатов в старом смысле слова. Во всяком случае, позже он писал сказки, автобиографию и статьи, а то, что создал в самом конце 50-х годов — книга о псалмах и книга о любви, — написано иначе, обращено скорей к сердцу, чем к разуму.
В то же самое время параллельно трактатам и притчам — в 1939, 1943 и 1945 годах (второй вариант — 1955) — он написал три романа, которые называют «Космической трилогией». Их вы и прочитаете сейчас, а потом, в послесловии — о них. Поэтому вернемся к трактатам.
«Любовь» появилась сперва в виде радиобесед для Америки (1958). Теперь Льюис был женат, и брак его так удивителен, что о нем написали пьесу, которая идет в Англии. Американская журналистка Джой Дэвидмен обратилась, читая его книги (больше всего потрясли ее «Баламут» и «Расторжение брака»). В начале 1950-х годов она стала ему писать, потом приехала в Англию и полюбила его. Все шло медленно и нудно, Льюис привязывался к ней, но совсем не хотел жениться и даже, видимо, не влюблялся, но тут она заболела — и он обвенчался с ней в больнице. Она выздоровела. Они были очень счастливы целых три года, поехали вместе в Грецию, вернулись, она заболела опять и летом 1960 года умерла. А еще через три года умер Льюис.
Беседы о любви созданы, когда начинался их брак, изданы — когда он кончался, тем же летом, что умерла Джой. Мне кажется, лучше все это знать, когда их читаешь.
Наконец, скажу о том, что стало с книгами Льюиса. Как мы видели, написал он немало, но ни «Баламут», ни сказки, ни романы не позволяли, пока он был жив, числить его среди крупнейших английских писателей, тем более классиков. Сейчас мы остановимся только на одной причине, — может быть, все-таки главной.
Торнтон Уайлдер в «Дне восьмом» пишет о своем герое: «В конце концов и поклонники, и противники объявили его старомодным, и на этом успокоились» (пер. Е. Калашниковой). Казалось бы, можно ли назвать старомодными таких легких, даже слишком легких писателей, как Честертон и Льюис? Можно, отчасти из-за их простоты. Наш век не очень ее любит. У Льюиса, как и у Честертона, есть качества, совсем непопулярные в наше время: оба — намеренно просты, оба — раздражающе серьезны. Как и Честертон, Льюис очень несерьезно относился к себе, очень серьезно — к тому, что отстаивал. Льюис сказал, что из мыслителей XX века на него больше всего повлиял Честертон, а из книг Честертона — «Вечный человек». Действительно, они принадлежат к одной традиции, и даже не по «жанру» (который, кстати, не должен бы удивлять страну, где жили и писали христианские мыслители от Хомякова до Федотова и дальше), а по здравомыслию и редкому сочетанию глубокой убежденности с глубоким смирением. Похожи они не во всем: Льюис рассудительней Честертона (не «разумнее», а именно «рассудительнее»), строже, тише, намного печальней, в нем меньше блеска, больше спокойствия. Но, вместе взятые, они гораздо меньше похожи на своих современников. Какими бы эксцентричными ни казались их мысли, оба они, особенно Льюис, постоянно напоминали, что ничего не выдумывают, даже не открывают, только повторяют забытое. Льюис называл себя динозавром и образчиком былого; один из нынешних исследователей назвал его не автором, а переводчиком.
Как мы уже говорили, за годы, прошедшие с его смерти, весомость его заметно увеличилась. Может быть, она будет расти; может быть, он, как сказал Толстой о Лескове, «писатель будущего», и примерно по той же причине. Льюис нужен и весом тогда, когда игры в новую нравственность, вненравственность, безнравственность уж очень опасны, и людям больше не кажутся скучными слова «великий моралист».
Недавно так назвали Льюиса в одном из англоязычных справочников, причем между делом, словно это само собой разумеется. Когда-то в трактате о страдании Льюис писал:, «…порою мы попадаем в карманы, в тупики мира — в училище, в полк, в контору, где нравы очень дурны. Одни вещи здесь считают обычными («все так делают»), другие — глупым донкихотством. Но, вынырнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире «обычными вещами» гнушаются, а донкихотство входит в простую порядочность. То, что представлялось болезненной щепетильностью, оказывается признаком душевного здоровья». И дальше, приравнивая к такому карману то ли этот мир, то ли этот век: «Как ни печально, все мы видим, что лишь нежизненные добродетели в силах спасти наш род. <…> Они, словно бы проникшие в карман извне, оказались очень важными, такими важными, что проживи мы лет десять по их законам, земля исполнится мира, здоровья и радости; больше же ей не поможет ничто. Пусть принято считать все это прекраснодушным и невыполнимым — когда мы действительно в опасности, самая наша жизнь зависит от того, насколько мы этому следуем. И мы начинаем завидовать нудным, наивным людям, которые на деле, а не на словах научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертве».
Льюис — один из таких людей. Может быть, пора побыть с ним и поучиться у него?
Н. ТраубергЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЗМОЛВНОЙ ПЛАНЕТЫ
He успели последние капли грозы простучать по листьям, как путник засунул карту в карман, устало поправил рюкзак за плечами и вышел на дорогу из-под раскидистого каштана, под ветвями которого укрывался от дождя. Оранжевый поток солнечных лучей еще лился в прореху между тучами на западе, но впереди, над холмами, небо уже потемнело. С каждого листа, с каждой травинки стекали капли, а дорога сверкала, словно ручей. Однако путник не стал любоваться пейзажем. Он решительно зашагал вперед с видом доброго ходока, который понял, что путь еще неблизок. Впрочем, так оно и было. Оглянувшись назад, он увидел бы в отдалении шпиль церкви в Наддерби и, верно, помянул бы недобрым словом негостеприимную маленькую гостиницу. От постояльцев она явно не ломилась, но в ночлеге ему все же отказали. Когда-то, во время одного из своих предыдущих походов, он уже бывал в этих краях, но с тех пор гостиница перешла в другие руки. Знакомый ему добродушный старик куда-то исчез, и теперь у руля — по словам официантки в баре — стояла некая «хозяйка». Эта особа, несомненно, принадлежала к той ортодоксальной британской школе содержателей постоялых дворов, для которых постояльцы — одна морока. В результате ему ничего не оставалось, как примириться с необходимостью прошагать еще добрых шесть миль до Стерка по ту сторону холмов, где, если верить карте, тоже имелась гостиница. Правда, богатый опыт подсказывал путнику, что не стоит возлагать на нее особые надежды, но выбора у него не было.
![Клайв Льюис - Космическая трилогия [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/48553/48553.jpg)